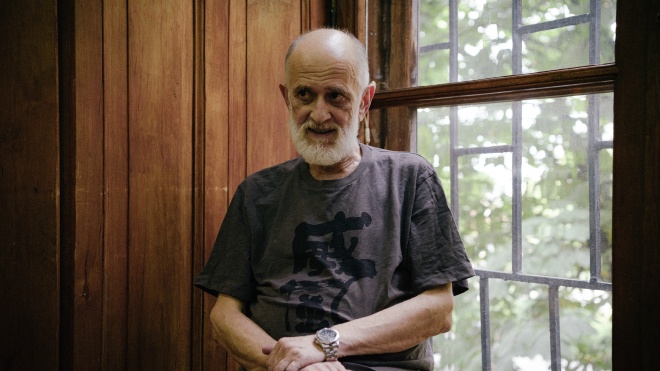В Одесском городском саду, куда мы приехали с Ройтбурдом, шумно. Уличные музыканты с плохо настроенным звуком исполняют песню «Лимончики». «Если б у нас была смертная казнь, я бы расстрелял всех, кто поет «Лимончики». Особенно в Одессе, ― ворчит Ройтбурд, садясь за столик на летней площадке ресторана. ― Хотя скоро будет мой любимый куплет. Там должно быть: “Соня жарила бычки и варила рачки, обварилась кипятком аж до самой срачки”. Вот если так споют ― хорошо, эти пусть будут».
― О чем будем говорить?
― О музее, о вас. Не хочется разве что обсуждать давние скандалы ― например, с картиной «Натюрморт».
― А-а, это там, где люди *бутся, что ли? Так а чего не поговорить? Разве это плохо, когда у людей секс?
― Да вас об этом в каждом интервью спрашивают.
― Ну, банально, но интересно же, как раздули всё.
― Вы как-то сказали, что интервью вам не приносят удовольствия ― это просто часть работы. Но у вас столько должностей и занятий ― как вы определяете свою работу для себя?
― Я работаю тем, что я живу. И наоборот. У этого много разных проявлений ― будь это живопись или вот у меня на старости лет выходит первая книжка стихов, с иллюстрациями Сергея Жадана.
― В каком издательстве?
― У Померанцева. Макет уже верстают. Так что или это изменение музея, или это тот же самый «любимый» Одесский областной совет ― это все способы реализации. Какие-то более любимые, какие-то, может быть, менее. Но я понимаю зачем.
Выбирая блюдо, Ройтбурд хвалится артефактом ― удостоверением депутата Одесского облсовета. Показывает небольшую бордовую книжечку с надписью «Посвідчення депутата».
― Не в каждом советском учреждении мне выдавали такую корочку, какую выдали сейчас. Посмотрите! Такого совка я еще не видел. Но один раз я реально получил с этого бонус. Как-то приехал один застройщик — киевский мой друг, и мы шумной толпой гуляли в ресторане «Облака». Там была курительная зона, где сидели мажоры с телками и курили. А нас с художником Сенченко пускали максимум на ступеньки и мимо нас ходили. Кончилось тем, что я показал эту корочку ― и через секундочку меня чуть ли не за ручку усадили за стол, сказали: «Извините, спасибо что пришли к нам». Так что хорошая вещь.
― Зачем вам сейчас депутатство в облсовете?
― Нынешние политические расклады не лучшие, и о каких-то вопросах, которые я выносил бы на повестку, сейчас лучше даже не вспоминать. Но хотя бы могу заткнуть рот пигалице из Партии Шария, которая требует увековечить память «Беркута».
А в первую очередь я пришел туда, чтобы разблокировать музей ― и это получилось. Он ведь находился в состоянии фактического бана, а я был полууволенным. То есть меня уволили, суд отменил решение [депутатов облсовета прошлого созыва], они проплатили апелляцию. Кассация была в мою пользу ― но перед этим облсовет сам отменил свое решение об увольнении. Без моего присутствия в сессионном зале не знаю, случилось ли бы это. Теперь я не вишу на волоске, музей не висит на волоске.
Раньше мое увольнение просто не подписывали губернаторы. Один за другим: Степанов, Куцый, Гриневецкий. Но в любой момент мог прийти какой-то новый ― и подписать. Сегодня же, я считаю, пока мне уходить рано.
― Вы еще со времен работы над концепцией PinchukArtCentre пытались создать коллекцию современного украинского искусства…
― Вы немножко промахнулись. Активность по консолидации украинского искусства я начал еще в 90-е годы. В 1995-м я на какой-то конференции сделал доклад «Искусство и государство». Позже о нем забыли, но процентов восемьдесят из него я и сейчас бы повторил. Потом я зашел в наблюдательный совет Центра современного искусства Сороса в Одессе ― и как человек, живущий в провинции (хотя Одесса тогда не была такой провинциальной, как сейчас), прилагал усилия для развития города. Я выстраивал горизонтальные связи, был первым куратором, который в 1994 году успешно выставил в Украине серию Бориса Михайлова «Я не я». Показывал в Одессе инсталляции Сагайдаковского. И да, потом прописывал концепцию центра Пинчука.
Вместе с другими консультантами мы тогда составили перечень работ, купив которые, Пинчук мог бы создать первую частную коллекцию современного украинского искусства, по сути — создать рынок. Меня тогда обвинили в завышении цен, хотя с большинством художников мы торговались. Только в нескольких случаях ― например, когда Александр Гнилицкий готов был продать свою работу за две тысячи долларов, я сказал ему: «Саша, ну хотя бы пять». В итоге, видимо, кто-то из кураторов тогда сказал Пинчуку, что украинское искусство ― говно, с чем он охотно согласился. Впрочем, это его личные деньги. На которые хочешь ― яхту можешь купить, хочешь ― футбольную команду. Претензии у меня могут быть только на уровне личных пожеланий.
― Если сейчас зайти на второй этаж музея, создается впечатление, что у вас, хотя бы частично, получается создать коллекцию, над которой вы с 90-х работали.
― Это только начало. О будущем не будем говорить, чтоб не сглазить. Но вот сегодня мы утвердили список картин, которые музей в скором времени купит.
Кстати, о пользе от облсовета. Каждый его депутат имеет свой депутатский фонд. На эти деньги он может построить общественный туалет, детскую площадку, сделать дорогу… Достаточно нудное это занятие иногда. Я свои 3,5 миллиона целевым назначением передал на закупки для Одесского художественного музея. Депутат я на пять лет ― и, если всё будет хорошо, эту сумму можно будет умножить на пять. Если мы станем национальным музеем, может быть, юридически проводить это будет сложнее. Но для меня это принцип.
― Какие подвижки с национальным статусом музея?
― Серьезные. На ближайшей сессии облсовета будет вынесен вопрос о передаче музея на баланс Минкульта. Также готовится письмо губернатора к премьеру о присвоении музею нового статуса.
Понимаю, что вызову гнев прогрессивной общественности, но я очень благодарен [министру культуры Александру] Ткаченко за его позицию в этом вопросе. В принципе, те министры, с которыми мне пришлось сталкиваться ― это Нищук, Бородянский и Ткаченко, очень разные, иногда даже в чем-то антиподы. Они нифига не радикальные реформаторы, но по крайней мере далеки от совка и конструктивно настроены.
― У вас были планы расширять территорию. Насколько они близки к воплощению?
― Этот стол сделан из пластмассы, поэтому не по чему постучать.
Позже заведующий научным отделом музея Кирилл Липатов сообщил «Бабелю» о планах Минкульта передать ОХМ корпус Одесской фабрики кинооборудования. Четырехэтажное здание расположено неподалеку от рынка «Привоз».
― Какая площадь была бы для вас оптимальной? Раньше вы говорили и о пяти, и о пятнадцати тысячах квадратных метров.
― Пятнадцать тысяч достаточно для того, чтоб человек пришел в музей и не смог осмотреть его за один день, пять — оптимально, чтоб человек или семья посвятили музею целый день. У нас сегодня площадь две с половиной тысячи квадратов, экспозиционная и того меньше. Выставлено менее десяти процентов коллекции, а надо хотя бы процентов тридцать.
Я считаю, что Украине нужны великие музеи. Мы вообще недооцениваем значение такого рода институций. Для нас музей ― это что-то необязательное. Вот недавно у нас был ужин для благотворителей, и они начинали свои спичи с того, что «до прихода новой команды в последний раз в этом музее я был с мамой». Или «в последний раз я был в восемьдесят каком-то году на выставке Глазунова, для меня музей ― это рухлядь». А сегодня музей «живой», туда ходят молодые люди. Я шучу, что если раньше основным контингентом были бабушки, то сейчас бабушек стало больше. Потому что тогда бабушки приходили в пустые, пыльные залы и максимум видели таких же бабушек, как они. А теперь они приходят ― и видят живого хипстера, например. Им стало интересней.
― Из того, что вы планировали сделать в музее, подавая в 2017 году свою кандидатуру на пост директора, много получилось?
― Слава Богу, хоть что-то. Конечно, когда я говорил о диджитализации, то даже не представлял, насколько это некому делать. Некоторых сотрудников пришлось просить ― и еще придется ― подыскать себе другую работу. Надо вербовать новых людей.
― Через полтора месяца после начала работы вы сказали, что у музея три проблемы: бюрократия, бюрократия и бюрократия. Что-то поменялось?
― Если б это были проблемы только этого музея... Но у нас же сам принцип государственного менеджмента до сих пор во многом советский. Финансирование через казначейство ― тяжеловесное, с постоянными задержками. Это анахронизм. Культурным институциям нужно работать в режиме государственного гранта. Вот тебе грант — это твое, а в конце года отчитайся.
Вообще, музей должен обладать автономией типа европейской университетской. Неформально так и есть, но только потому, что в Украине научились обходить бессмысленные ограничения. С помощью личных связей, например. Но необходимость постоянно что-то лоббировать, продвигать, мониторить каждое телодвижение вышестоящих органов… Не могу сказать, что там плохие люди работают или что они плохо исполняют свои обязанности, но сама система выстроена так, что им выгоднее ничего не сделать, чем что-то сделать.
В итоге последняя масштабная государственная закупка в Одесский музей была еще в 1989 году. А сегодня, в условиях рынка, не музеефицировать современное искусство ― преступление. Ключевые вещи нескольких периодов ― начиная от нонконформизма и включая девяностые и нулевые ― в музейные собрания не попадут уже никогда.
― Потому что они в частных коллекциях?
― Или пропали. У меня несколько ключевых работ утрачены.
― Вы не раз упоминали, что в Киеве для вас больше возможностей, чем в Одессе...
― Что значит больше? У меня рынка в Одессе нет. Я — художник, а, как вы понимаете, на зарплату музея семь тысяч гривен в месяц [особо не поживешь]. Я живу с продаж своих работ, а рынок мой ― в Киеве. В Одессе, может, процентов пять от него.
Но камни наполняют. Здесь у меня есть ощущение всей протяженности жизни. Вот я смотрю на место, где «Лимончики» играли, и вспоминаю, как здесь был театр летний, куда мы с родителями ходили. С каждым местом в центре города, где я вырос, связаны какие-то детские, юношеские ощущения, друзья, родственники, женщины. Я час могу рассказывать о своих личных отношениях с вон той беседкой, которую отсюда видно. Поэтому да, это был один из мотивов. Гулять по улицам в Одессе гораздо приятней, особенно мне как одесситу, чем в Киеве. Реализовываться в Одессе сложней.
― Когда вы поняли, что хотите вернуться?
― А я не захотел ― меня схантили. Приехала Саша Ковальчук и стала требовать, чтоб я нашел для музея директора в Киеве. Еще какие-то люди, мои детские друзья, горячо поддержали идею, чтоб директором стал я. Хотя у меня достаточно недоброжелателей, особенно в кругах левой прогрессивной художественной общественности. Ваш «Бабель», кстати, левый?
― Мы за рынок.
― А наш Бабель был левым [смеется].
Но не суть. Мы вот купили работы Никиты Кадана. Я публично звал его злобным п*зденышем, но считаю, что отсутствие в коллекции Кадана ― это фальсификация украинской культуры. Я могу не любить каких-то художников или их идеи, но они есть. Музей должен быть объективным, отражать реальность.
― Вы как-то сказали, что когда жили не в Одессе, у вас было чувство травмы за город и за его трансформацию. Что вы имели в виду?
― Так оно и сейчас есть. Особенно остро я это почувствовал в Риме, где мы гуляли по нецентральным улицам. Там я увидел Одессу своего детства. Вспомнил город, в котором можно было спокойно снимать кино про Париж, а потом вспомнил, как эти же места, эти же дома выглядят сейчас. Вспомнил тотальную замену черепицы на железо ― это еще советская коррупция была. Замену всех литых ворот на какие-то сварные. Потом началась эпоха строительства курятников на памятниках архитектуры ― аквариумов из турецкой вагонки, которые называют балконами.
К сожалению, пока не дозреет общественное сознание, сделать с этим ничего нельзя. А сознание сейчас движется в какую-то другую сторону. Город в очередной раз переживает смену этноса. Люди, которые сегодня кричат, что они коренные одесситы ― ну может, бабушки у них тут жили. Я не коренной одессит, у меня папа из местечка, мама из села. Но у меня есть сформированное с детства сознание горожанина. Сегодня сознание горожанина в Одессе сменяется сознанием даже не села, а колхоза. Это бытовка завода имени Ленина или имени 35-го съезда КПСС. Какое-то новое варварство ― не в смысле радикального отрицания норматива, а в смысле отсутствия эстетического порога.
В некотором смысле я социальный расист. Считаю, что когда все клевали Нищука за генетику ― ну, действительно, неудачно сказал. Но если бы он в этой же речи процитировал фразу [писателя Ивана] Бунина о том, что «я не могу себе представить, кого нарожает то быдло, которое сегодня пришло к власти»… Или вот деревенщики русские говорили, что есть этика крестьянская ― она цельная. Есть этика горожанина, интеллигента ― похуже. А самое страшное ― это разрушенная этическая система человека, который из села переехал в город.
Чуть раньше к нашему столику подсел Кирилл Липатов, заведующий научным отделом музея. Спрашивает Ройтбурда: «А художник Ройтбурд из местечка не имеет такой этики?»
― Ну, во-первых, я сформирован архитектурой. Во-вторых… Сейчас меня обвинят в обычном расизме уже. Я не считаю евреев хуже или лучше других народов, но тут на генетическом, извините за выражение, уровне сформирована поколенческая система приоритета книги. У евреев нет аристократии ― ни графьев, ни князьев. Общественное положение человека веками определялось тем, насколько он сведущ в Талмуде. Эту тему можно долго развивать. И, в третьих, это влияние родителей [в голосе сразу слышатся слезы, Ройтбурд говорит медленней]. Папа был более взрывным, человеком действия. А мама была носителем какой-то врожденной культуры. Культуры мудрости, толерантности. Она считала, что в первую очередь человека формируют семья, школа и архитектура. Мне повезло с тремя этими вещами.
― В двухтысячных вы жили в США, да и раньше имели достаточно вариантов, где жить и патриотом какой страны стать. Украину выбрали осознанно. Почему?
― В Америке я мог стать в очередь, и прежде чем начать отовариваться, надо было простоять лет десять. А тут я уже свою очередь более-менее отстоял и мог спокойно реализоваться.
Отчасти мой выбор был прагматичным. Чем больше я ездил в Москву, тем больше сталкивался с презрением к «хохлам», провинциалам. Несмотря на то, что в начале независимости Киев был гораздо более враждебным по отношению к провинции, чем Москва. Ведь та воспринимала провинцию как ресурс, а Киев ― как конкурента.
В современном искусстве Москвы и Украины очень различался культурный код. В Москве было жестко негативное отношение концептуалистов к живописи, а живописцев ― ко всему, что выходит за рамки традиционного пиетета перед живописью. А в Киеве ощущалась совершенно иная политическая, языковая, идеологическая нагрузка. Другой инструментарий конструирования образа ― и мне в нем было комфортно.
Чем больше я ездил в Москву, тем больше чувствовал, что мы другие. А дальше, по мере того как в России начал цементироваться авторитарный режим, Украина начала восприниматься мной как территория свободы.
Началось это достаточно быстро. Даже при «великом демократе» Ельцине уже были и тоталитарные, и антизападные, и имперские настроения. Потом они стали мейнстримом. Ну и, наконец, я был сторонником независимости [Украины] еще до независимости. Может быть, не пламенным, но умом понимал, что всё, что хочет реинтеграции в [Советский] Союз, ― это то, что я не люблю. И что чем дальше от Советского Союза ― тем лучше. Ну а после первого и, особенно, второго Майдана вообще как-то без вариантов было.
Во время первого Майдана я работал художником в одной из избирательных кампаний на «той» стороне. И увидел, что такое московские политтехнологи и какие люди являются их провайдерами. Это уже тогда было страшно.
С 2014-го же вообще все превратилось в схватку абсолютного зла с, может быть, несовершенным, но добром.
― Понравилась одна ваша цитата: «Думаю, если бы президентом Украины выбрали Иисуса Христа, Будду с Магометом, Кришну с Вишной ― все равно непонятно, как сохранить эту страну, победить коррупцию, превратить эту анархичную нацию в нацию ответственных граждан»…
― Да!
― Редко бывает так, чтобы совсем не было ответов. Хотя бы лично для себя.
― Есть такой анекдот. Киссинджера спросили: «Как решить проблемы России?» Он ответил: «Есть два варианта: реалистический и фантастический. С какого начать?» «Ну, с реалистического». «Смотрите: спустится с небес Христос, Матерь Божья, Моисей, двенадцать апостолов, сделают чудо ― и в России все нормализуется. Это ― реалистический». «А какой же фантастический?» «Русские сами решат свои проблемы».
В Украине анархия прописана в поведенческом коде. Здесь рабского страха перед царем почти никогда не было. Недолго был, но все равно Магдебургское право существовало тут дольше, чем крепостное. И когда выбирали гетьмана, его первым делом грязью мазали, чтобы не забыл, что он выборный, а не от Бога.
И «моя хата с краю», и нынешняя формулировка «отъ*битесь от нас» ― это проявления того же самого. Да, процессы какие-то идут, но это годы и годы, поколения и поколения.
― А что в этих процессах делают музеи? Почему вы называете их точкой, на которую общество может опереться в своей трансформации?
― Музей ― это концентрат многовековых напластований культуры, который становится частью жизни человека. Музыка ― прозвучала и замолчала. Литература спустя двести лет даже по языку выглядит архаичной, что говорить о проблематике. А застывший визуальный образ ― такой же, каким был в момент его создания. Возьмите статую какого-нибудь Рамзеса II: мы не знаем, как звучала древнеегипетская музыка, их расшифрованные тексты можем читать только в научных целях, а не чтоб провести время. А статуя Рамзеса какая была ― такой и осталась.
― Вы понимали, что для воплощения своих идей в музее придется тратить годы на борьбу в облсовете, терпеть бесконечную бюрократию? Почему было не отказаться от этого год, два года назад?
― Что до такой степени ― нет, не предполагал. Но взялся за гуж ― не говори, что своя рубашка ближе к телу.
Мы продолжим писать о детище Ройтбурда ― Одесском художественном музее. Ваши донаты помогут нам в этом.